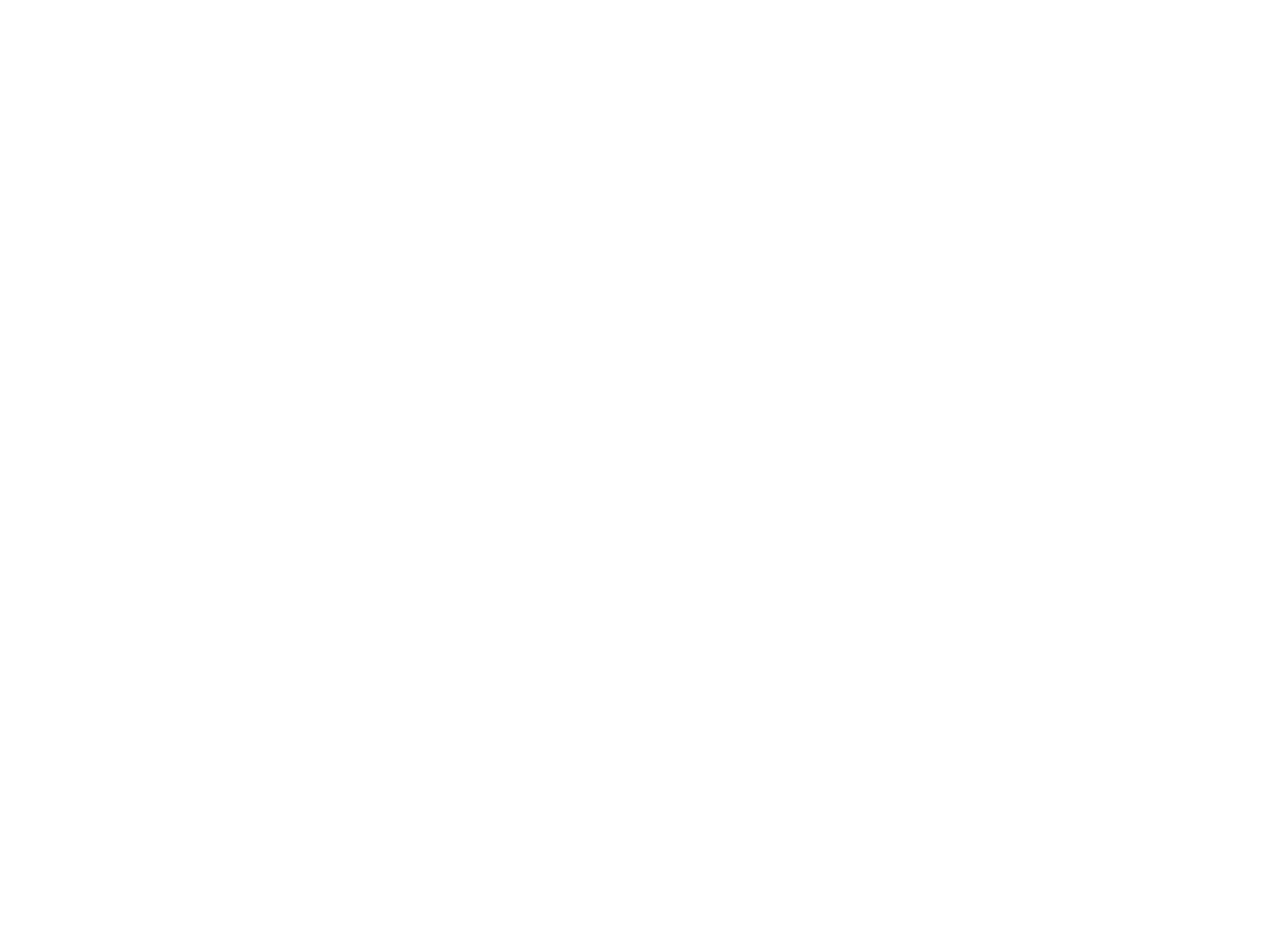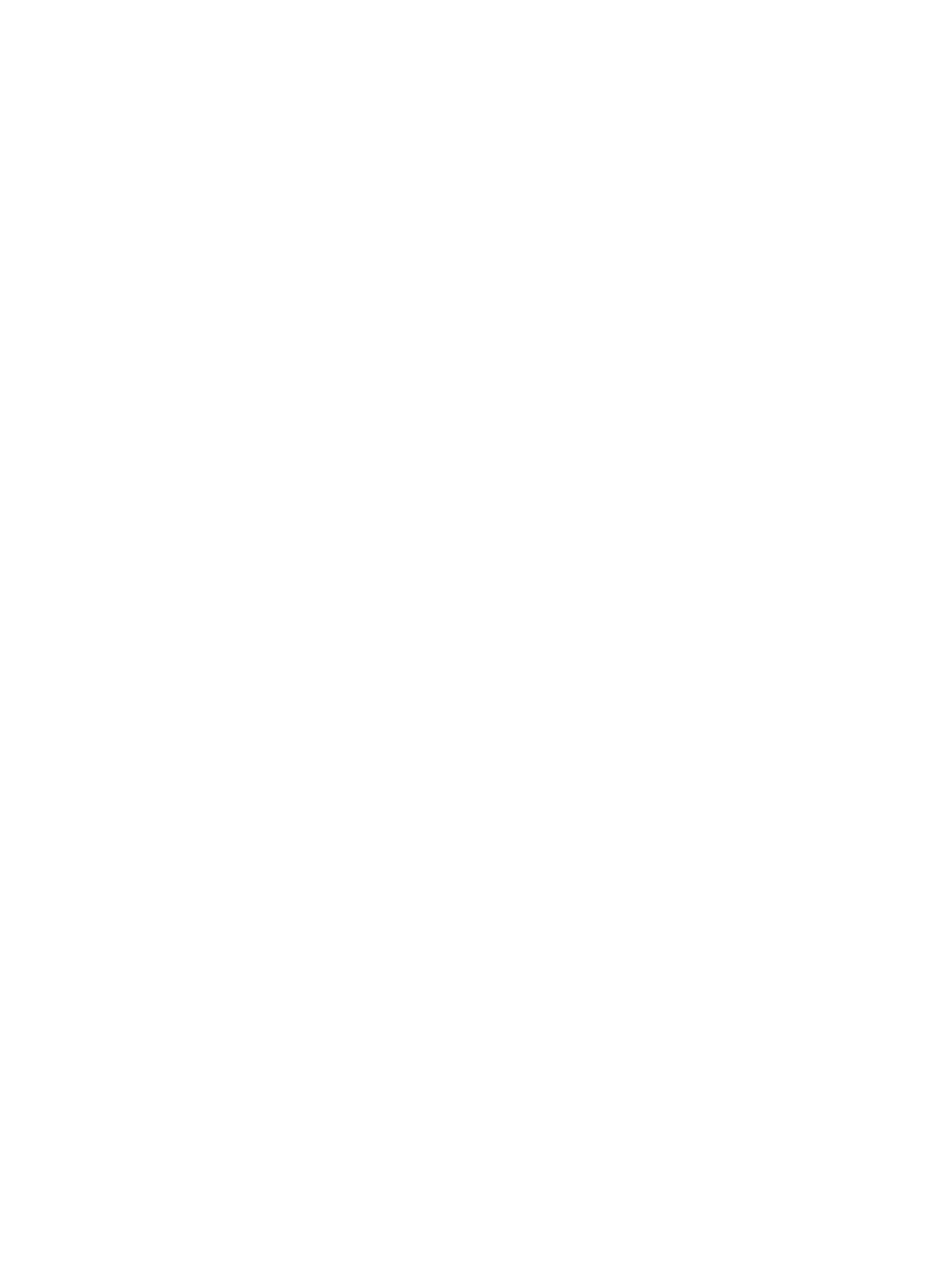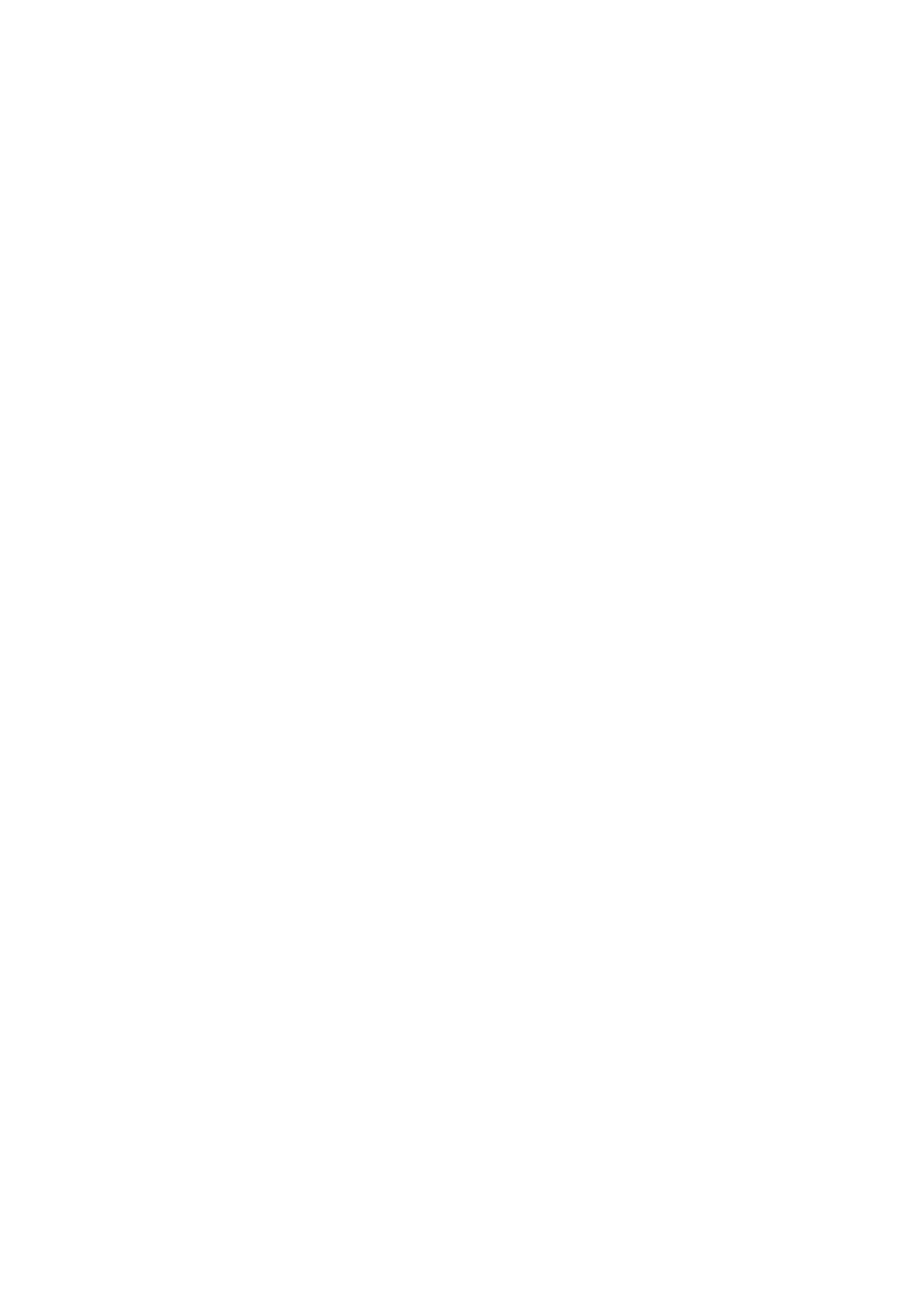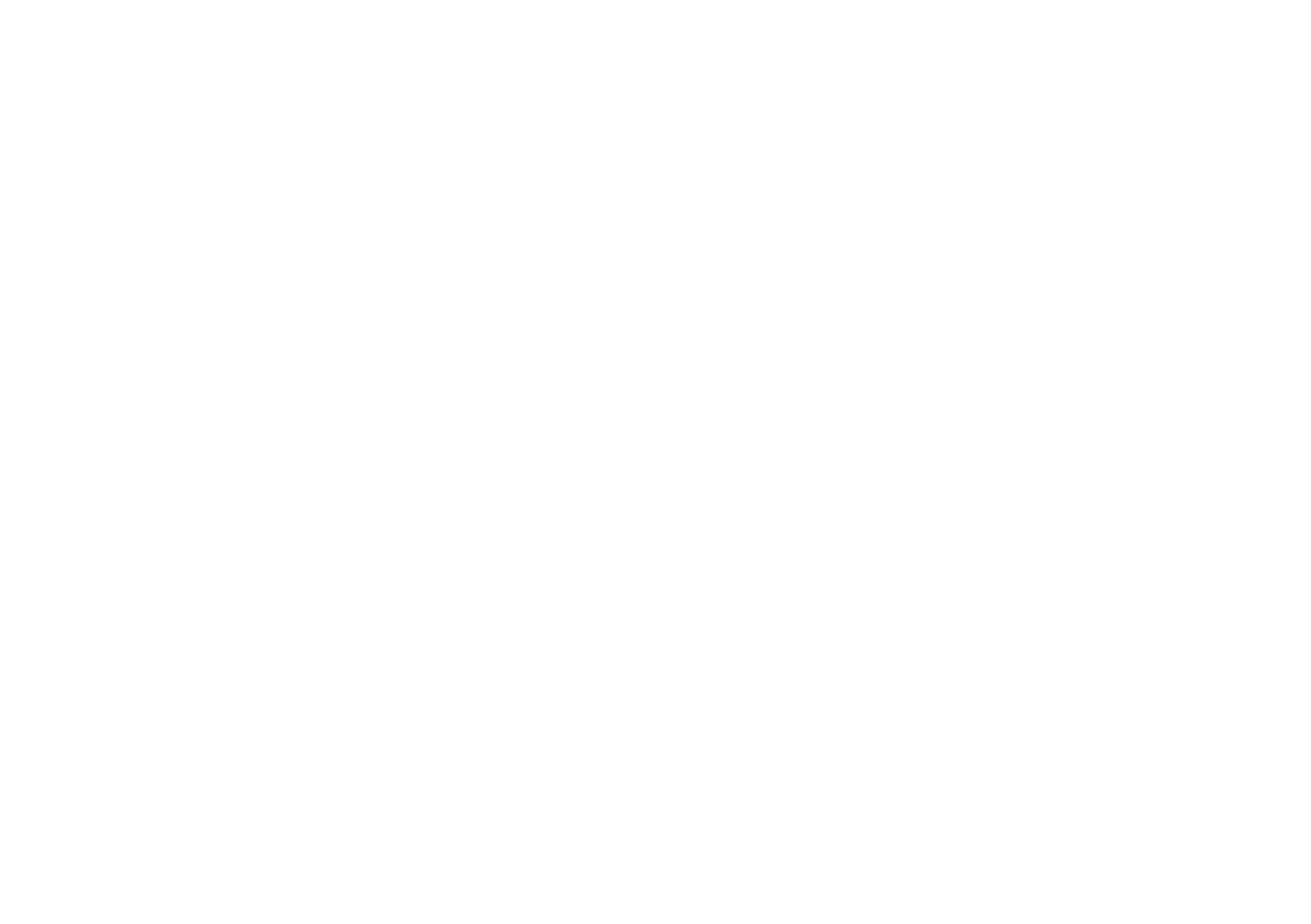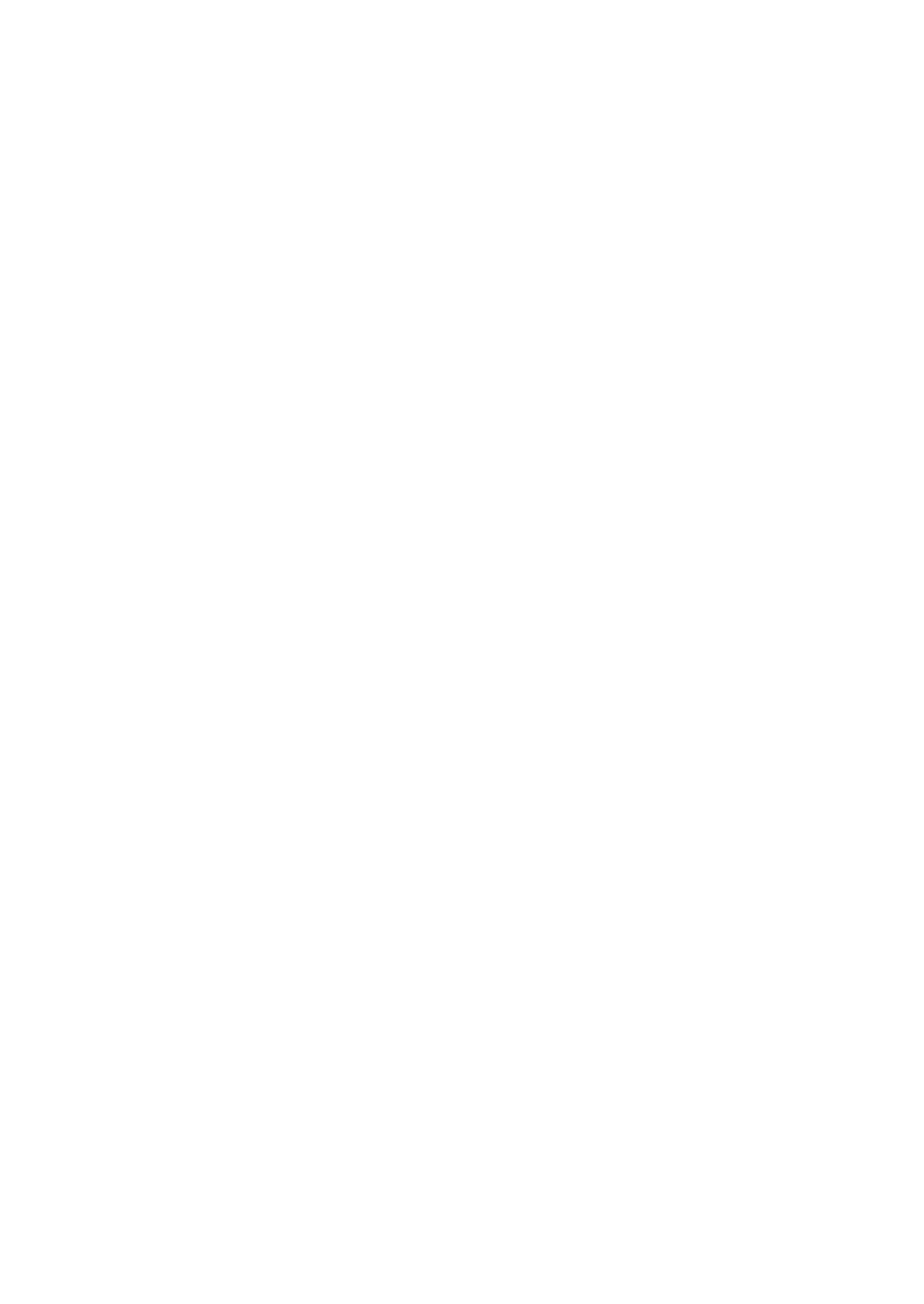No name for this girl, 2022 - now
Автопортрет, 2022 - сейчас
Автопортрет, 2022 - сейчас
Я не знаю о себе ничего. Я не знаю, люблю ли я щупать бегемота. Я не знаю, какой мой любимый алкогольный коктейль. Я не знаю, что я скажу, взглянув в глаза Большому Сфинксу. Я не знаю, смогу ли я выдержать больше 23 минут, наблюдая, как моя девятикиллограмовая душа дрогнула и затихла в приторном угаре своего первого наркоза.
Я знаю, какая шкура у Бегемота. Бархатная, израненная, живая. А какая шкура у меня? Оказалось, я совсем не знаю своего лица. Вот уже одиннадцать тысяч лун я ловлю его колюще-режущее отражение в сотне глаз, но не могу познать. Какое оно? Чем оно дышит? На кого оно похоже? Узнаю ли я его однажды или, быть может, мы с ним уже разминулись? Быть может, это оно отражалось в глазах спасителя горячими языками свечей? Осталось ли оно на полу, в крови и страхе, лежать ненужным, сломанным зубом добермана? Или я потеряла его в холодных, закрытых глазах самого главного человека моей жизни? Я не знаю. И коль скоро я отменно умею бояться, я боюсь. Боюсь незнания. Но намного больше боюсь я знания, ведь в нем сокрыто мнимое спокойствие, а значит в нем сокрыта смерть.
PS «История о хахарьке»
В причудливой книжке на последней странице нарисовано семейство хорьков. Три малыша и мама. Черно-белое тельце взрослого зверька обнимает шерстяные комочки с розовыми носами так уютно и нежно, что если прижать к страничке щечку, то можно явно почувствовать тепло. «Это мама - хахарек», - говорит мой сын, - «А ты - моя мама-хахарек». И сердце мое улыбается. «Не знала, дорогой, не знала».
Ругались вчера. Сорвалась, орала. Вдруг: «Вообще ты не мама-хахарек, ты какой-то страшный злой зверь». Бах. «Не знала, дорогой, не знала».
Я знаю, какая шкура у Бегемота. Бархатная, израненная, живая. А какая шкура у меня? Оказалось, я совсем не знаю своего лица. Вот уже одиннадцать тысяч лун я ловлю его колюще-режущее отражение в сотне глаз, но не могу познать. Какое оно? Чем оно дышит? На кого оно похоже? Узнаю ли я его однажды или, быть может, мы с ним уже разминулись? Быть может, это оно отражалось в глазах спасителя горячими языками свечей? Осталось ли оно на полу, в крови и страхе, лежать ненужным, сломанным зубом добермана? Или я потеряла его в холодных, закрытых глазах самого главного человека моей жизни? Я не знаю. И коль скоро я отменно умею бояться, я боюсь. Боюсь незнания. Но намного больше боюсь я знания, ведь в нем сокрыто мнимое спокойствие, а значит в нем сокрыта смерть.
PS «История о хахарьке»
В причудливой книжке на последней странице нарисовано семейство хорьков. Три малыша и мама. Черно-белое тельце взрослого зверька обнимает шерстяные комочки с розовыми носами так уютно и нежно, что если прижать к страничке щечку, то можно явно почувствовать тепло. «Это мама - хахарек», - говорит мой сын, - «А ты - моя мама-хахарек». И сердце мое улыбается. «Не знала, дорогой, не знала».
Ругались вчера. Сорвалась, орала. Вдруг: «Вообще ты не мама-хахарек, ты какой-то страшный злой зверь». Бах. «Не знала, дорогой, не знала».
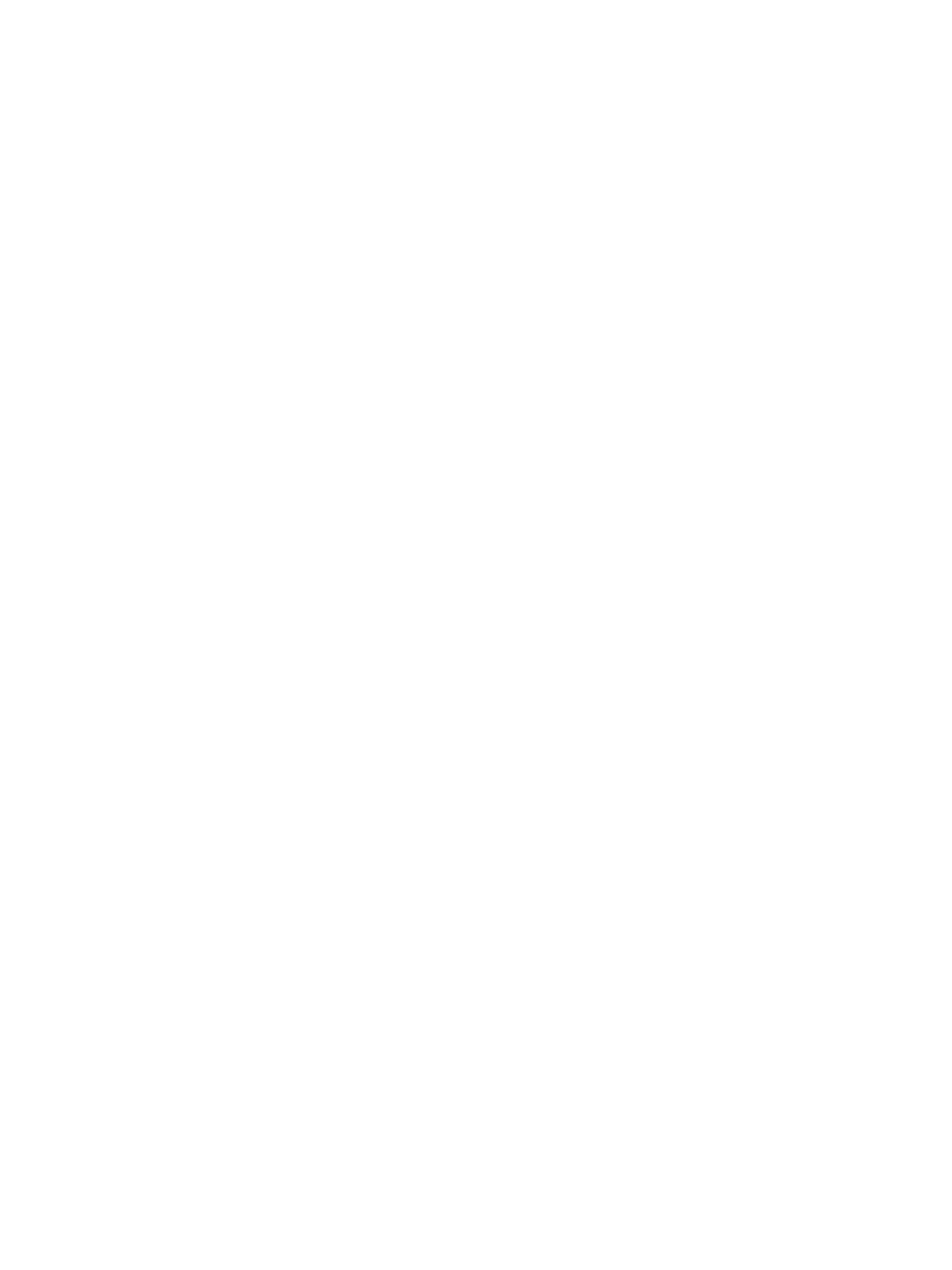
Графическая серия - спорадический, алогичный, бесцельный фиксатив самости, своего лица в разных, материалах, условиях, состояниях, временах. Печатная графика. Силикон. Перчатки. Печатная графика. Что-то.